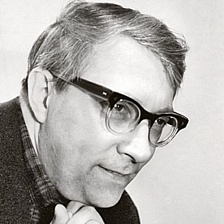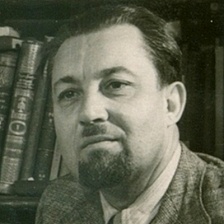Премьера - 28 июня 1957 г.
Основная сцена
2 часа 40 минут с антрактом
Рассказ о первой школьной любви. После школьного спектакля Глеб неожиданно понимает, что влюблён в одноклассницу Катю Мурашову. Они счастливы, но учительница Рукавишникова встаёт на пути их чувства...
Публикации
О красоте юности и силе дружбы
На балконе в сумраке летней ночи — Джульетта, в белом одеянии, с распущенными волосами. Возле нее, опершись на парапет, — Ромео. Они говорят друг другу нежные слова. Сразу видно — это не профессиональные артисты. Да, это — школьники, недавние девятиклассники Глеб Семеров и Катя Мурашова. Играют они неуверенно, слова любви произносят по-книжному, заученно. После представления Глеб бегает за кулисами с бутафорской шпагой за девушкой, дергает ее за волосы. Катя, смеясь, упрекает его за привычки пятиклассника и отходит в сторонку, чтобы заплести косы. И тут происходит неожиданное. Глеб во все глаза смотрит на нее и говорит с непонятным для него самого волнением: «Постой, не заплетай, тебе так лучше». Несколько раз, словно в забытьи, повторяет он эту фразу. «Что с тобой?», — спрашивает встревоженная Катя. «Сам не пойму», — чистосердечно признается Глеб. Так возникает большое чувство Глеба к Кате. Девять лет они учились вместе, и он не отличал ее от других. И вдруг пришло радостное, светлое чувство первой любви.
Поэтическим настроением этого чувства пронизан новый спектакль театра имени Ф. Г. Волкова «Я тебя найду».
Любовь Глеба и Кати не является главной темой пьесы Е. Успенской и Л. Ошанина. Она призвана лишь ярче оттенить проблемы воспитания, поставленные в произведении. Создатели спектакля усилили звучание этой темы. Именно поэтому, может быть, спектакль получился романтически приподнятым и в то же время реалистически достоверным.
Режиссер В. А. Давыдов избежал схематизма, однообразия построения сценического действия, обнаружив умение пользоваться различными сценическими приемами и красками.
В пьесе Е. Успенской и Л. Ошанина нет сцены из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», которой начинается действие. Режиссер ввел ее для контраста с последующим ярким и совсем неожиданным раскрытием чувства Глеба к Кате. Изобретательно поставлены интермедии, открывающие каждую картину пьесы. Несмотря на весьма посредственные стихи Льва Ошанина, интермедии звучат эмоционально, вызывают определенную настроенность в зале. Такое же стремление уйти от готовых штампов отличает игру и артистов.
Глеб Семеров в исполнении Ф. Мокеева — честен, искренен, смел и одновременно прямолинеен, иногда резок. Он «весь состоит из углов»... Артист сумел удивительно правдиво передать прозрачность внутреннего мира юноши при внешней хмурости его, а иногда и замкнутости.
Любовь к Кате преображает Глеба. Сцены встреч с ней, особенно в интермедиях, Мокеев проводит с увлеченностью, в его игре есть та достоверность, которая делает точной каждую его интонацию, каждый шаг.
Роль Кати Мурашовой исполняет 3. Л. Савченко. Мурашова—Савченко трогает теплотой и целомудренностью своего чувства, какой-то светлой застенчивостью и скромностью. Артистка играет непосредственно, вкладывает в образ героини много девического обаяния.
Трудно забыть сцену разговора Кати с учительницей Рукавишниковой в первой картине третьего действия. Рукавишникова, оставшись наедине с Катей, расспрашивает ее об отношениях с Глебом. Глядя на учительницу ясными, открытыми глазами, Катя говорит: «Мы с Глебом любим друг друга, Лидия Васильевна». «Что значит — любим? — не понимает учительница. — Какие у вас отношения, я спрашиваю?»
С предельной выразительностью передает актриса недоумение Кати, ее детскую доверчивость, желание как-то об’яснить взаимоотношения с Глебом. Это недоумение еще более возросло, когда Рукавишникова почужевшим вдруг голосом об’явила, что считает их отношения неправильными. К недоумению прибавились обида и стыд за учительницу, когда Рукавишникова перед всем классом назвала Катю и Глеба женихом и невестой. «Что вы сделали, Лидия Васильевна? — со слезами на глазах шепчет она, — я вам, как родной матери, а вы…».
Рукавишниковой в пьесе и спектакле противостоит как воспитатель директор школы Алексей Иванович. Артист В. П. Манихин рисует его чутким, умным педагогом, близким молодежи. Его девиз: чтобы вырастить большевистский характер, прежде всего надо воспитать высокие человеческие чувства. Но Алексей Иванович отнюдь не сторонник порочной теории «свободного воспитания». Его отношения с питомцами истинно человеческие, умные, чистосердечные. Он прост в общении с учащимися, но за этим чувствуется мудрость опытного педагога, человека, много пережившего и испытавшего.
Мастерски провел артист сцену встречи в лесу Алексея Ивановича с Рукавишниковой. Одиннадцать лет назад, будучи на практике, он встретил шестнадцатилетнюю девушку — Лиду Рукавишникову, и с тех пор образ ее всюду был с ним. И вот он встретил ее. Он бежит ей навстречу с протянутыми руками. Он верит и не верит, что это она. Алексей Иванович безмерно счастлив, какая-то детскость появляется в его облике, глаза восторженно сияют. Он оглядывается на ребят, как бы приглашая их разделить с ним его радость.
Превосходно в этой сцене сыграла и артистка Е. А. Кривцова (Рукавишникова). Вначале зрители недоумевают, видя ее несколько холодную сдержанность. Ведь она тоже мечтала о долгожданной встрече. И только потом в этой красивой, такой интересной и умной на вид женщине мы вдруг ощущаем черты мещанства, самолюбования, ограниченности.
В последующих сценах актриса умело и беспощадно раскрывает эти черты учительницы Рукавишниковой. Вот сцена в одной из комнат «Дома умелых рук». Петр Череда читает лирические стихи Глеба для рукописного ученического журнала. Незаметно входит Рукавишникова и останавливается у двери. Когда чтение заканчивается, учительница брюзгливо спрашивает: «И вы хотите поместить в журнале эти стихи?» Ей отвечают, что стихи хорошие, жизненные. Учительница выходит из себя: «Стихи об интимном чувстве? В школе?» В ее голосе слышатся недоумение и... растерянность. Ведь ни в одном учебнике педагогики она не встречала указания о допустимости интимной лирики на страницах ученических журналов! На стене комнаты учительница читает лозунг: «Уважай свои руки. Они могут сделать все на земле».
— Откуда эта цитата? — спрашивает она. Ей отвечают, что это не цитата, а ребята сами придумали. И опять растерянность и недоумение, переходящие в злость.
Человек с холодной душой, черствый и ограниченный, Рукавишникова восстановила против себя почти всех учеников класса, так заботливо воспитываемых в течение девяти лет Алексеем Ивановичем. Учащиеся охладели к выпуску журнала, снизилась успеваемость. Для Глеба и Кати жизнь была ясной, простой и счастливой. Но вот их душ коснулись холодные руки нового воспитателя, и каждый из них уже повергнут в бездну горя и отчаяния. Они начинают пересматривать свои прежние радостные, доверчивые представления о жизни и людях.
В кульминационной сцене спектакля исполнитель роли Алексея Ивановича — Манихин достигает наибольшей выразительности. Внешне он спокоен, жесты его скупы, но сила чувства пробивается наружу, выдавая волнение.
В спектакле есть и другие творческие удачи. Это, прежде всего, доктор Семеров в исполнении артиста Н. М. Севера. Хорош Петя Череда — артист В. М. Аршинов.
Но режиссер и исполнители не сумели до конца преодолеть существенные недочеты пьесы, хотя сделать спектакль лучше вполне возможно.
Общий недостаток спектакля – художественная неравнозначность отдельных картин. Первая интермедия и эпизоды первого действия по-настоящему волнуют. Во втором же действии живое чувство невольно угасает. Здесь хороша первая интермедия, зато в последующих картинах жизнь на сцене чуть теплится, живая ткань спектакля расползается на отдельные куски. Третье действие вновь приковывает пристальное внимание зрителей, хотя и в нем отдельные эпизоды, на наш взгляд, можно поставить изобретательнее, живее.
Поверхностно решенным оказался образ Виктора Бутягина (артист Д. Д. Бондарев). Верно и интересно намеченный в первом действии комедийный рисунок этой роли, в дальнейшем совершенно исчезает, что представляется неверным. Виктор, моментально «меняющий кожу» в зависимости от обстоятельств, достоин осмеяния.
Создатели спектакля стремились научить молодежь внимательно и бережно относиться друг к другу, показать, что доверие и человеческое внимание к людям -— закономерность нашего общества. В значительной степени эти цели в спектакле достигнуты. Он раскрывает красоту и счастье юности, освещенной большой гражданской целью, утверждает силу дружбы, чистоту настоящей любви.
И. КАШТАЛОВ
«Северный рабочий», 1957, 6 октября
Актёры

Зинаида Савченко
Катя Мурашова

Феликс Мокеев
Глеб Семеров

Владимир Манихин
Каштанов Алексей Иванович, директор школы

Елена Кривцова
Рукавишникова Лидия Васильевна, учительница

Николай Север
Семеров Андрей Андреевич, отец Глеба

Мария Беляева
Ирина Михайловна
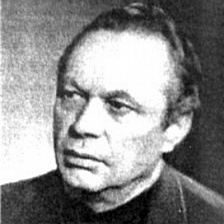
Владимир Аршинов
Петя Череда

Дмитрий Бондарев
Виктор Бутягин

Елизавета Бурченко
Зина

Юрий Горобец
Гриша Ремешков